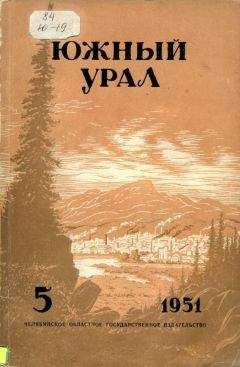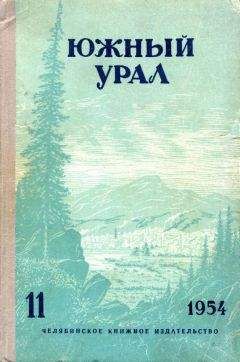Рустам Валеев - Южный Урал, № 31
Дед так и повернулся на седушке:
— В выучениках, говоришь? Ишь ты! А чего же? Не поглянулось или потурили?
— Не, сам убег. Чего хорошего?
Митрию Афанасьичу это вроде бы в обиду стало. Отвернулся к окошку и опять молоточком запостукивал. Настёна подошла к нему, стала сбоку и смотрит. Вот дедка молчал, молчал — не стерпел:
— Эх, парень! Содрать бы с тебя штаны да выпороть: от доброго дела ушел! Я вот говорю тебе: шестьдесят годов с лишком этим ремеслом промышляю и не однова не покаялся.
— Так я не от дела — от хозяина убег. Лютой больно был. Как напьется пьяный — кулаки в ход. А что, у меня шкура-то, поди-ка, не казенная. Сколь можно терпеть? А дело это мне вовсе любо было…
Дедка как услыхал этакое слово, ровно бы просиял малость, помягчал и снова к Настенке бородой повернулся:
— Ну а показывал он тебе что-нибудь, учил мастерству-то хозяин твой?
— Как же! Учил: дратву сучить, помои носить, самовар кипятить да за водкой в кабак бегать.
— О-о-о! Это, брат, неладно.
— А то! От путевого-то хозяина разве бы ушел? Небось, не шибко радостно с котомкой по дворам попрошайничать.
Сказала так-то Настёна, насупилась, примолкла, носом: зашмыгала и отвернулась. Дед Ушко запустил пальцы в бороду, уперся глазами в верстак и долго молчал. Потом отложил молоточек, улыбнулся так это добренько, погладил Настёну по голове и спрашивает:
— А хочешь ко мне в выученики пойти?
— Не… не знаю…
— А чего же? Коли ты парень — сам себе родня, никого у тебя нет и дела в руки еще взять не успел, а чеботарство, говоришь, по душе пришлось, так о чем тут думать? Как-никак, а все лучше, чем по миру ходить. А ремесло это, брат, хорошее. Надо только во вкус войти, до точки. Тут и тебе повсегда кусок хлеба, и людям радость да здоровье. Ну, так как, а?
— Да я бы ничего… Со всей охотой. Только ты тоже, поди, драться станешь, да за водкой турять…
— Драться не стану, не таковский. Сам не терплю, когда человек человека обижает. А водку я вот уж пятьдесят годов скоро, как в рот не беру. По ее милости без уха да и без семьи остался… Ну так поладили, что ль?
— Ага. Только ты уж тогда без утайки, все показывай.
— Об этом не печалься. Мне жить недолго осталось. Сам думал, кому бы свое богатство отказать. В могилу-то с собой нести больно неохота. Это ровно как бы у людей украсть…
Так вот и осталась Настёна у Митрия Афанасьевича жить-поживать, уму-разуму да ремеслу учиться. Он ей перво-наперво добрые штаны с рубахой справил, сапожки на подковках со звоном сшил. В общем угодил по всем статьям, без укора. И мастерству с первого же дня учить начал. А у ней ручонки-то ловкие, глазок остренький оказался. Так на лету все и ловит. Одно слово, совсем ладно дело пошло. Только к гробу долго не могла привыкнуть. Проснется ночью — прямо жуть возьмет. А дедка еще манеру выдумал: спать в нем.
— Так-то, говорит, лучше. Помру — останется крышкой накрыть да гвоздями забить. Тут и вся недолга.
Ну, все-таки мало-помалу свыклась.
Так и жили они. А дедка с той поры, как у него выученик появился, вроде бы даже малость на поправку пошел. В работе то показывает, другое, ровно груз какой торопится с себя скинуть. А за делом и хворь только на запятках волочится.
Этак у них годочка два пробежало. Настёна совсем уж настоящим мастером сделалась. Сама и заказы принимает, и цены назначает, и товар выбирает, и фасон ладит. Дедка толь-кой ей поддакивает:
— Так, так, сынок, так.
Ну, однако, сколь ничего, а годы свое берут. Хворь все же мало-помалу с запяток до сердца дотягиваться стала. Дедка вовсе слег. Настёна, понятно, ухаживает за ним, все честь честью — не похаешь. А ему день ото дня все хуже да хуже. И вот как-то раз сидел он на своей постельке, Настёна об ту пору по заказу урядниковой жене туфли ладила. Как раз уж с колодки снимать стала. Поставила их на верстачок, любуется. Дедке тоже говорит:
— Глянь-ка, сколь хороши вышли.
Ну, тот осмотрел, похвалил работу: чистенько сделано — ничего худого не скажешь. Потом полез под подушку, достал оттуда сверточек — так не больно большой — и подает Настёне:
— На, — говорит, — это тебе от меня поминанье будет. А то я скоро помру.
Развернула Настёна бумагу, а там, в сверточке-то, туфельки дамские — еще красивее тех, что она урядничихе сшила, — платье цветастое из мякинького ситчика, косынка голубая да лента алая.
Завидела это Настёна, вздрогнула, отодвинула от себя пакетик и смотрит на дедушку да глазенками-то луп, луп. Зачем, дескать, мне это? Что я — девка, что ли? А у самой душа дрожит: так бы сейчас бросилась в горницу, одела все это на себя да перед зеркальцем круть-верть. Известно: девка. Дед Ушко смотрит на нее, улыбается:
— Бери, доченька, бери. Я уж давно заприметил, что ты с парнем-то и рядом не была.
Ну, она маленько успокоилась, видит, что дедка не сердится, тогда и спрашивает:
— А какие, деда, у тебя приметки были? Я ровно за собой следила.
— Что верно, то верно. На слове ни разу не проговорилась. Да ведь много есть и других. Взять, к примеру, как воду на коромысле из колодца носишь. Ножками-то не по-мальчишечьи перебираешь: в перегиб, с подкосом. Опять же когда пол моешь… Тряпочку-то по-особенному выжимаешь, со сноровкой. Парню так не суметь. И разное другое. А теперь уж и вовсе. Ты, знать, давно в зеркало не гляделась. Пойди-ка в горницу, посмотрись.
Побежала Настёнка, стала перед зеркальцем: и штаны вроде сидят как надо, и рубаха при пояске во всех правилах, и картузик на затылок сбит, а только уж что по девичьей принадлежности положено, того на шестнадцатом годке никуда не скроешь.
Вышла тогда она к дедушке, взяла пакетик и низехонько в ноги ему поклонилась.
— Спасибо, деда, за подарочек. А за то, что знал про меня да не выгнал, вдвое тебе спасибо. Туфельки эти я до старости сохраню как памятку, косынку с платьем носить стану, а ленту, если когда-нибудь господь даст такое, своей дочке приберегу и по праздникам в косу вплетать стану.
— Это уж, миленькая, как знаешь. А только теперь уважь старика: пойди принарядись. Я хоть погляжу перед смертью, какая ты у меня в девичьем обличии.
Ну, Настёна — не того слова: вдругорядь просить не надо — пошла в горницу, переоделась, косыночку на голову повязала и выходит. Дедка, как глянул на нее, даже в лице сменился. Такая красавица — глаз не отвесть! По молодому-то делу случись этакую ненароком встретить — год во сне сниться будет, а привидься ночью — до утра глаз не сомкнешь. Прошлась она по кухонке — Митрия Афанасьича аж в дрожь вогнало:
— Да уж ты, — говорит, — не Настя ли душка из седушки?